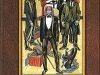Продолговатый ящик (Длинный ларь)
непрестанно цитировала своего «дорогого супруга мистера Уайетта», чем
вызывала всеобщие насмешки. Вообще говоря, слово «супруг» было — тут я
позволю себе употребить одно из собственных ее деликатных выражений — было
вечно «на самом кончике ее языка». Меж тем всему кораблю было известно, что
он ее явно избегал и большую часть времени проводил один, запершись в каюте,
где, можно сказать, и жил, предоставив своей жене развлекаться, как ей
заблагорассудится, в шумном обществе, собиравшемся в салоне.
Из всего, что я видел и слышал, я заключил, что художник по какой-то
непонятной прихоти судьбы или, возможно, в порыве слепой и восторженной
страсти связал себя с существом, стоящим значительно ниже его, что и привело
к естественному результату — скорому и полному отвращению. Я всем сердцем
жалел его — и все же не мог по одному этому простить ему скрытности
относительно «Тайной вечери». За это я положил еще с ним рассчитаться.
Однажды он вышел из своей каюты и я, взяв его, как обычно, под руку,
стал прогуливаться с ним по палубе. Он был все в том же мрачном расположении
духа, которое, правда, в данных обстоятельствах казалось мне вполне
объяснимым. Говорил он мало — и то хмуро и с явным усилием. Раза два я
рискнул пошутить, но он только криво улыбнулся в ответ. Бедняга! — я
вспомнил о его жене и подивился, как он вообще может притворяться веселым. Я
решился дать ему осторожно понять скрытыми намеками и двусмысленными
замечаниями на тему о длинном ларе, что совсем не так уж прост, чтобы стать
жертвой его невинной мистификации. Для начала я намеревался намекнуть, что
кое-что подозреваю. Я сказал что-то о «необычайной форме этого ларя», притом
ухмыльнулся, подмигнул и легонько ткнул его пальцем в грудь.
Невинная эта шутка вызвала, однако, такую реакцию, что мне немедленно
стало ясно: Уайетт, конечно, сошел с ума. Сначала он уставился на меня так,
словно не понимал, что я нашел тут смешного; но по мере того, как смысл моих
слов медленно проникал в его сознание, глаза его выходили из орбит. Он
побагровел, потом побледнел, как мертвец, — затем, словно развеселясь от
моего намека, разразился безудержным смехом, который, к величайшему моему
удивлению, продолжался, все усиливаясь, минут десять или того более. В
заключение он ринулся ничком на палубу. Я кинулся его поднимать — он казался
мертвым.
Я кликнул на помощь, и с величайшим трудом мы привели его в чувство.
Опомнившись, он что-то долго и невнятно говорил. Наконец, ему пустили кровь
и уложили в постель. На следующее утро он был совершенно здоров, во всяком
случае, физически. О рассудке его я, конечно, не говорю. Во всю остальную
часть пути я его избегал, следуя совету капитана, который, казалось,
разделял мои опасения относительно безумия Уайетта, но просил не говорить об
этом ни одной душе на борту.
Вскоре после этого случая произошли некоторые другие события, которые
лишь усилили владевшее мною любопытство. Вот что, в частности, произошло. Я
нервничал — пия слишком много крепкого зеленого чая и плохо спал ночь —
вернее, две ночи я, можно сказать, не спал вовсе. А надо вам заметить, что
моя каюта выходила в салон, или в столовую, как, впрочем, каюты всех
холостяков на корабле. Три каюты, которые занимал Уайетт, сообщались с
холлом, который отделяла от салона тонкая раздвижная дверь, никогда не
запиравшаяся даже ночью. Так как мы почти постоянно шли под ветром, и притом
нешуточным, корабль сильно кренился на борт; когда ветер бил в правый борт,
дверь в салон отъезжала в сторону, да так и оставалась, ибо никому не
хотелось вставать и закрывать ее снова. Когда же раздвижная дверь и дверь в
мою каюту были открыты (а моя дверь из-за жары стояла всегда открытой), мне
с моей койки был виден холл или, вернее, та его часть, где находились двери
кают мистера Уайетта. Так вот, в те две ночи (правда, они шли не подряд одна
за другой), когда я не мог заснуть, я ясно видел, как часов в одиннадцать
миссис Уайетт появлялась, крадучись, из каюты мистера Уайетта, своего мужа,
и направлялась в свободную каюту, где и оставалась до рассвета, когда по
зову мужа она возвращалась назад. Было ясно, что, по сути, они разошлись.
Они жили врозь — безусловно, в ожидании окончательного развода; в том-то,
очевидно, и заключалась тайна свободной каюты.
Было и другое обстоятельство, которое крайне меня заинтересовало. В
бессонные ночи внимание мое привлекли какие-то странные, осторожные, глухие
звуки, которые раздавались в каюте мистера Уайетта, как только жена его
удалялась в свободную каюту. Напряженно прислушавшись к ним, я смог,
наконец, после некоторого размышления разгадать их смысл. Звуки эти
производил художник, открывая длинный ларь, стоящий в его каюте, с помощью
долота и деревянного молотка, обернутого какой-то мягкой, шерстяной или
бумажной материей, чтобы смягчить и заглушить стук.
Мне чудилось, что я безошибочно улавливал тот миг, когда он освобождает
крышку, угадываю, когда он и вовсе ее снимает, когда кладет на нижнюю койку
в своей каюте, — о последнем, к примеру, я догадывался по тому, как крынка
негромко ударялась о деревянные края койки, куда он старался положить ее как
можно тише — ибо на полу для нее уже не было места. Потом наступала мертвая
тишина. И в обе ночи до самого рассвета я ничего больше не слышал; только
какой-то тихий протяжный звук — не то плач, не то стон, настолько глухой,
что почти и вовсе неразличимый. А впрочем, все это, скорее всего, было
порождением моей фантазии. Я говорю — звуки эти походили на плач и стоны но,
конечно, то было что-то иное. Я склонен думать, что у меня просто звенело в
ушах. Мистер Уайетт, без сомнения, просто предавался, как обычно, одному из
любимейших своих занятий — давал волю своей восторженности художника. Он
вскрывал заколоченный ларь, чтобы порадовать свой взор заключенным в нем
сокровищем. Конечно, для плача здесь вовсе не было поводов. Вот почему я
повторяю, что, верно, все это было плодом моего воображения, взбудораженного
зеленым чаем добрейшего капитана Харди. За несколько минут до рассвета в обе
ночи, о которых я говорю, я отчетливо слышал, как мистер Уайетт клал крышку
на ларь и осторожно вколачивал гвозди на прежние места. Проделав все это, он
выходил из своей каюты, полностью одетый, и вызывал миссис Уайетт из ее
каюты.
Мы были в море неделю и уже миновали мыс Гаттерас {4*}, как вдруг
поднялся страшный юго-западный ветер. Мы были отчасти к тому подготовлены,
ибо вот уже несколько дней как погода хмурилась. Все паруса были убраны, и,
так как ветер крепчал, мы, наконец, легли в дрейф, оставив только
контр-бизань и фок-зейль на двойных рифах.
В таком положении мы оставались двое суток — наш пакетбот показал себя
славным судном и почти не набрал воды. На исходе вторых суток, однако, шторм
перешел в ураган, наш задний парус изорвало в клочки, и вал за валом с
чудовищной силой обрушились на нашу палубу. Мы потеряли трех матросов,
камбуз и чуть не всю обшивку левого борта. Не успели мы прийти в себя, как
передний парус тоже был сорван. Тогда мы подняли штурм-стаксель, и несколько
часов все шло совсем неплохо — корабль выдерживал натиск волн значительно
лучше прежнего.
Шторм, однако, не стихал, и мы не видели никакой надежды на затишье.
Снасти расшатались и не выдерживали нагрузки, а на третий день, часов в пять
пополудни под натиском ветра свалилась наша бизань-мачта. Более часа
пытались мы отделаться от нее, корабль страшно качало, и мы ничего не могли
сделать; тут на корму поднялся Шкипер и объявил, что в трюме воды на четыре
фута. В довершение всего мы обнаружили, что насосы наши засорились и от них
уже мало проку.
Смятение и отчаяние охватили всех, — однако мы попытались облегчить
корабль, выбросив за борт весь груз, который можно было вытащить из трюма, и
срубив оставшиеся две мачты. Это нам, наконец, удалось, но с насосами мы
справиться не могли, а между тем вода все прибывала.
На закате ветер значительно ослаб, и у нас появилась слабая надежда
спастись в шлюпках. В восемь часов вечера тучи с наветренной стороны
разошлись и показалась полная луна — счастливое обстоятельство, вселившее в
наши души надежду.
С невероятными трудностями мы спустили, наконец, на воду бот, в который
уселись матросы и большая часть пассажиров. Они немедленно отплыли и,
претерпев немало лишений, на третий день благополучно прибыли в Окракокскую
бухту.
Четырнадцать пассажиров и капитан остались на борту, решив доверить
свою судьбу небольшой шлюпке, укрепленной на корме. Без труда спустили мы ее
за борт, но, едва коснувшись воды, она чуть не перевернулась, и только чудом
удалось нам ее спасти. В нее-то и сели капитан с женой, мистер Уайетт со
своими спутницами, мексиканский офицер, его жена и четверо детей, и я с
негром, который был у меня в услужении.
Разумеется, мы ничего с собой не взяли, кроме самых необходимых
инструментов, провианта да платья, что было на нас. Никому и в голову не
пришло пытаться спасти что-нибудь из вещей. Представьте же себе наше
изумление, когда, не успели мы отойти на несколько саженей от корабля, как
мистер Уайетт поднялся с места и хладнокровно потребовал от капитана Харди,
чтобы шлюпка повернула назад, ибо он должен забрать из каюты свой ларь!
— Сядьте, мистер Уайетт, — отвечал капитан сурово. — Вы нас опрокинете,
если не будете сидеть совершенно спокойно. Мы и то уже в воде по самый борт.
— Ларь! — закричал мистер Уайетт, все еще стоя. — Слышите, ларь!
Капитан Харди, вы не можете мне отказать! Нет, вы мне не откажете. Он весит
-
Tweet

 (Рейтинг +7)
(Рейтинг +7)